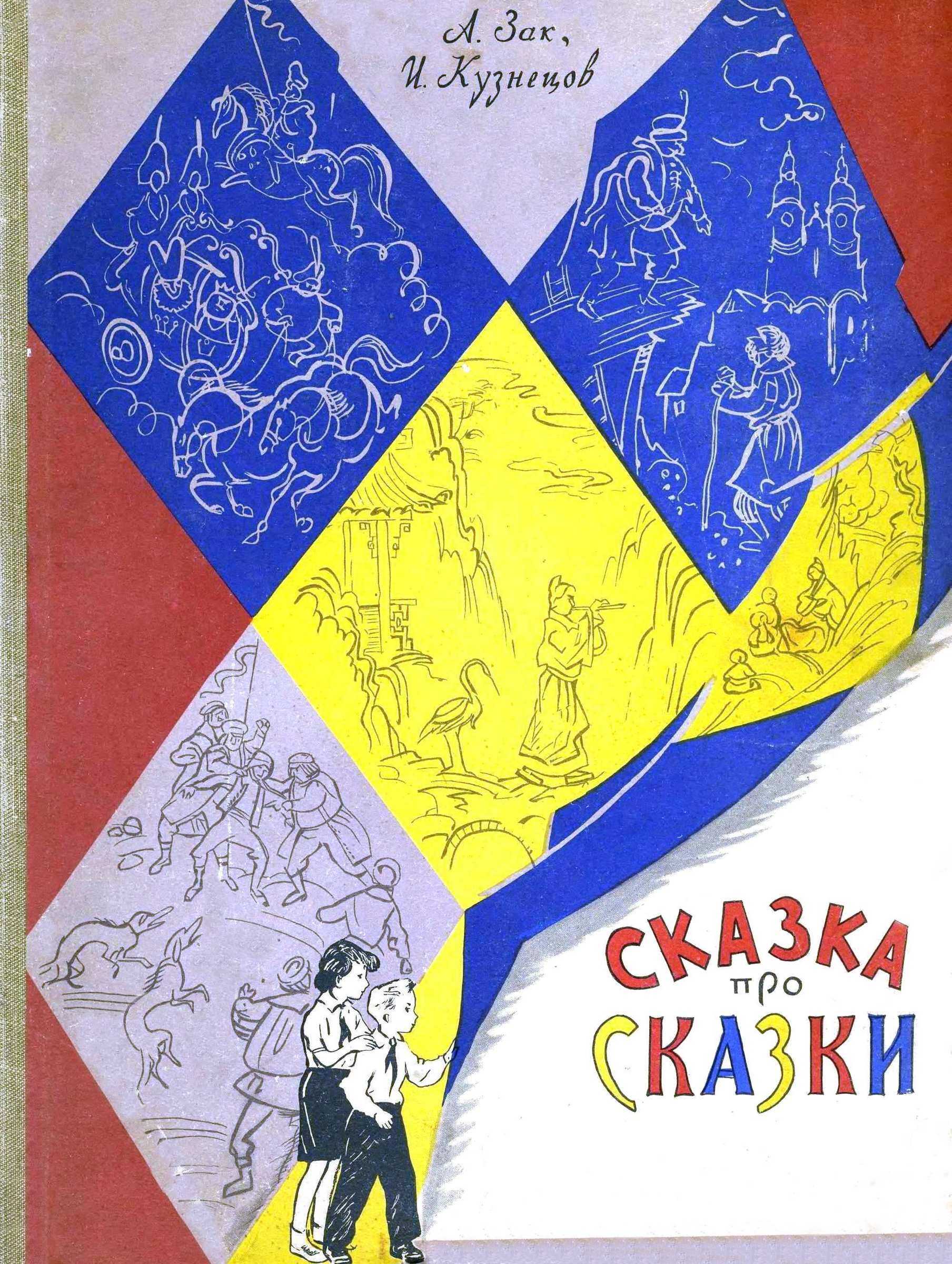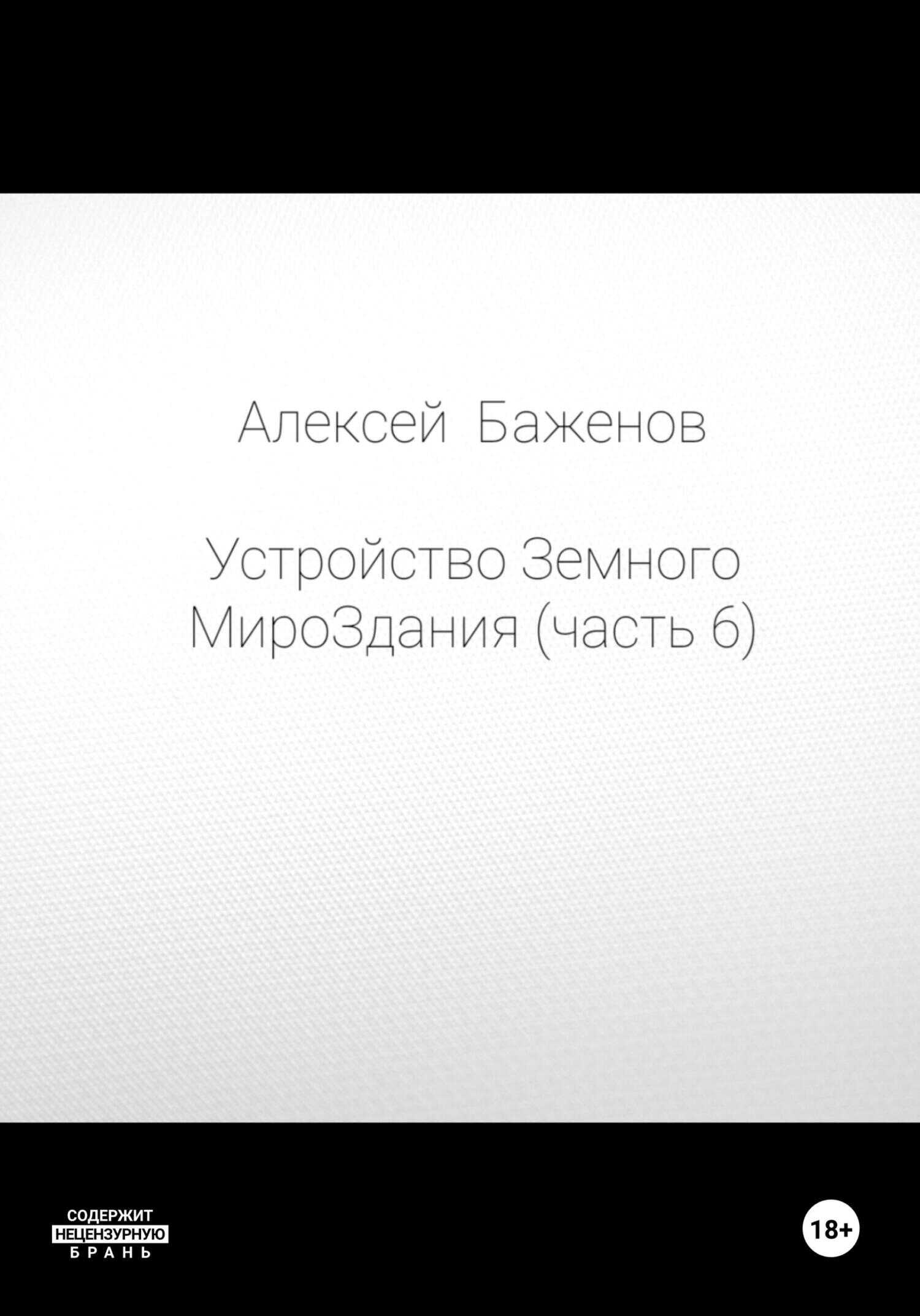Книга Язычник [litres] - Александр Владимирович Кузнецов-Тулянин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А может быть, пронзительное чувство пришло к Бессонову в обычный день из стечения удачных примет и обстоятельств. Утром, оторвав голову от подушки, Бессонов, по обыкновению, проводил взглядом Витька, который, проснувшись, вставал с постели сразу, в отличие от мужиков постарше, долго потягивавшихся и ждавших, когда пробуждающая сила вольется в ноющие тела и разойдется боль в суставах.
Витёк, в трусах, босиком, прошлепал по твердому земляному полу во вторую половину барака, в кандейку, и там загремел крышками, заглядывая в кастрюли. Но дверь отворилась, с улицы просунулась голова Валеры, который давно был на ногах, и прогнусавила в сломанный нос:
– Витёк, щас будет чифан, голодным не оставлю…
Бессонов улыбнулся – он давно решил для себя: если день начнется иначе, если Витёк не подойдет к плите и не посмотрит в кастрюлю или кто другой опередит его, то от предстоящего дня удачи не жди. Бессонов сам себе случайно придумал эту примету, как и кучу других примет, которые порой досаждали ему тягостной обязательностью. Но он не думал с ними бороться, хорошо зная, что, нагрузившись бессмысленной чепухой, на рыбалке живется намного вернее. Иначе все равно не получилось бы. Он знал, что нельзя было сказать: я ни во что не верю. Если так сказать утром, вечером уже забудешь о своем атеизме, приметишь в одном углу возню упыря, в другом – домового, а ночью пойдешь ставить на крышу мисочку с едой для навьев и бросать монетку в море. А пройдет еще день, и не то что смеяться будешь над этой дурью – будет уже не до смеха, тогда уж начнется другая басня. Взбредет тебе в голову встать лицом к Лику вселенной, вытянуть руки и напитаться энергией солнышка – мурашки встопорщатся на руках. И при этом надо будет пошептать что-нибудь соответствующее.
Так, на всякий случай, они все жили в кругу немыслимых ритуалов и примет. Были общие приметы. В кунгас не плюй: он – твоя опора. В океан не плюй и по возможности не мочись: и дело не столько в том, что он тебе – отец и кормилец, он не простит плевка. А хочешь плюнуть – проглоти, хочешь помочиться, приперло, – проси и проси у него прощения. В океане не сори – вот они и возили с собой консервную банку для окурков и мусора, который высыпали потом на берегу. В океане не свисти: просвистишь удачу и собственную голову. Об удаче, даже если она уже свалилась на тебя, вслух не говори, принимай молча – иначе спугнешь. Еще молчаливее принимай невезуху; тринадцатого числа по возможности сиди на берегу. Океану никогда не верь, он двулик: сегодня – невеста, а завтра – отчим. Но ругать его не смей и думать нехорошее о нем не смей, а если чем-то недоволен, можешь немного поматериться на товарища или на самого себя. Но и чрезмерного сквернослова одергивали, потому что от тяжелых, мерзких слов навевало нехорошим, бедственным… Ходили среди рыбаков заговоры, нет-нет и соскочит с чьих-то уст ворожейная прибаутка: «Подуй, родной, дай выходной».
Были приметы, которые приходили спонтанно: из неожиданных сплетений обстоятельств, из туманных намеков бытия, – и они принимались всеми, на каждой тоне были свои закавыки, непонятные пришлому человеку. Бессоновские рыбаки на второй неделе путины вдруг решили, что выходить на одном кунгасе шестерым нельзя, можно – троим, четверым, пятерым или семерым. Так и делали, и уже никто не помнил, кому пришло в голову заметить, что раз уж цифра шесть – нечистая, то и шестеро на борту – плохо. Так же точно в первом кунгасе место на передней банке у левого борта стали считать квелым: кунгас в этом месте тянул силу, и туда избегали садиться.
Рождались и совсем интимные мелкие приметы и приметки, никому, кроме единоличного владельца, неведомые. Померещилось Бессонову, что кеды, когда он разувался на ночь, должны стоять у нар носками врозь, так он и ставил их каждый раз. Пробудившись утром, Бессонов следил за Витьком, затем показательно, будто по-старчески, но больше наигранно, кряхтя, вставал, одевался и шествовал на двор: метрах в тридцати за избушкой, у гряды камней, уходящей под полог зарослей, специально была прорыта неглубокая сортирная канава. Затем спускался к ручью и умывался холодной чистейшей водой, истекающей из глухого заросшего распадка. Шел завтракать. Таков был заведенный ход мелких утренних событий, который нельзя было нарушить: нельзя было, проснувшись, выпить стакан воды, сначала требовалось воссесть над канавой, даже если организм не выдавал никаких побуждений к тому, а потом нужно было поплескать в заросшее лицо из ручья, даже если из-за сильного шторма все остальные рыбаки без надобности не выглядывали из барака. Бессонов позволял себе только одну слабость – обрастать щетиной; брился он раз в несколько дней, потому что электрическая бритва, к которой он привык, была бесполезна без электричества, а безопасный станок вызывал на подбородке раздражение.
Перед выходом в море Бессонов обязал себя к совсем бессмысленному обряду: всякий раз он должен был посмотреться в квадратное зеркальце, лежавшее на полочке в изголовье нар. А переступив порог избушки, шествуя в тяжелых отвернутых сапогах к кунгасу, должен был трижды сплюнуть через левое плечо. Однажды, когда кто-то без спроса взял зеркальце, Бессонов устроил скандал, едва не кончившийся мордобоем. Рыбаки не восприняли это за мелочность, хотя и не поняли Бессонова, просто решили, что забуксовала в нем какая-то злость.
Бессонов и за другими замечал чудачества. Он видел, что Эдик Свеженцев, прежде чем заводить «Вихрь», непременно нежно гладил кожух мотора рукой, и губы его шевелились; движения его со временем потеряли осмысленность, достигнув бездумного автоматизма. А Жора Ахметели, обладатель мощного организма, медлительный от силы, добровольно помещал себя в иные рамки – его ношей была измочаленная, потерявшая цвет детская вязаная шапочка с помпоном, которую Жора водружал на затылок в любую погоду: в жару, в тайфун, – и его уже невозможно было вообразить без этой смешной шапочки-талисмана, венчающей мордастую кудлатую голову с черными отвислыми усищами.
А в тот день все приметы и чувства стеклись в один благоприятный поток и океан родил, выпростал из огромного пуза первый косячок гонцов: на переборке, когда сноровистые руки подтягивали сеть, делая все меньше и меньше гулевой дворик, рыбаки увидели несколько стремительных темно-синих, почти слитых с глубиной продолговатых теней: лосось.
Всего неделя после этого утонула в океане, и начался рунный ход горбуши: полноценные косяки пошли в бухту с севера и, описав широкий полукруг, рассекаясь вытянутыми в море неводами, частью шли дальше, частью прорывались в устье нерестовой Филатовки, но частью вплывали на подъемные дорожки неводов и оказывались в замкнутых ловушках. Управлялись втроем, еще троих Бессонов отослал на втором кунгасе на Тятинскую тоню.
Несколько дней спустя сдали первую рыбу: сейнер-перегрузчик забрал на круг двести восемьдесят центнеров. Но эту рыбу могли потерять, если бы опоздали к началу шторма: меньше, чем через сутки, в капитанский час зачуханная 10-РТ захрипела голосом диспетчера:
– Пятый – Первому… Как ты? Штормовое предупреждение. Тайфунец прет. Южняк… совсем… Прием, твою мать.
– Вас понял, якорную лапу тебе в очко…
И двенадцать часов на свирепеющей волне срезали ножами садки и ловушки с канатных рамок: спасали снасти. Кунгас на покатах втащили чуть ли не на сопку.
* * *
Однажды ты поймешь, что у каждого шторма особенная натура. Они оживают, эти мертвые ветра, гонимые над океаном слепой стихией атмосферного теплообмена. Шторм, как орда, обрушивается на берег тремя ярусами, тремя клыками, ревом заглушая все остальные звуки, и хоть ты обкричись – в двух шагах голос сомнется, раздавится, не достигнет ушей попутчика. И тогда неотвязно покажется, что горбатый океан